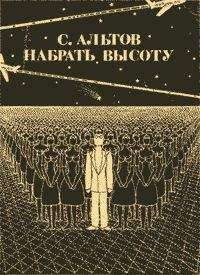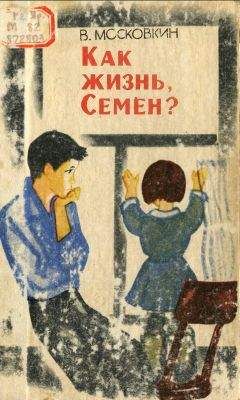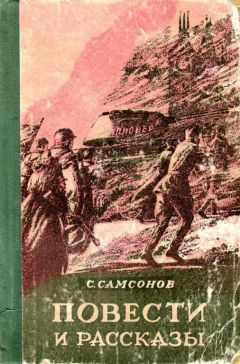Семён Шуртаков - Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]
— Я не понимаю, что ты хочешь.
— Видишь ли, когда Некрасов так назвал свою поэму, я не думаю, что он хотел как-то обидеть или тем более унизить, скажем, француженок или англичанок. Я думаю, что он был интернационалист не меньше нас с тобой. Видимо, он просто хотел выделить, подчеркнуть какие-то черты именно русского характера, русской женщины. У французов и француженок есть что-то свое, отличающее их от русских, у англичан — свое. Ну и, как говорится, на здоровье. Это даже хорошо, что люди разных наций — разные.
— Что же плохо?
— Плохо, когда это «свое» начинает размываться, нивелироваться под мировые стандарты, а то и вовсе заменяться, вытесняться чужим.
— А как же тогда со слиянием наций в будущем?
Вот она, школьная постановка вопроса! Заучила формулу и с умным видом «встромляет» ее в разговор.
— Ну, во-первых, это дело далекого будущего. А во-вторых, слияние должно идти, наверное, через обогащение чужим, без отказа от своего, а не наоборот. А то уж больно бедными придем мы в это прекрасное далёко. Лучше будет, наверное, если сольются богатые, а не обнищавшие… Да и уж если ты так хорошо это заучила, то надо бы помнить, что единение наций должно идти через расцвет — заметь: не через угасание, а через расцвет — национального.
— А вот это я всегда представляла очень смутно…
Мне не нравилось, что Маринка своими дурацкими вопросами увела разговор куда-то в сторону. Но уж если ей непременно хочется показать свою ученость, я подниму брошенную ею перчатку.
— А мне так, наоборот, представляется очень ясно, очень конкретно: текут реки, сливаются друг с другом и образуют море.
— И все?
— И все.
— А как же тогда с расцветом? В море-то вода одинаковая.
— В Черном или Каспийском — да. Но то море будет немного отличаться от них… Помнишь, когда мы ехали по Военно-Грузинской дороге? Помнишь то место, где сливаются Арагва с Курой? Голубая Арагва уже влилась в темно-желтую Куру, но еще долго идет, не смешиваясь, ясной голубой струей… Так вот, мне думается, что и вода каждой реки, впадая в то море, будет сохранять свой особый вкус и цвет. Потому, что у каждой реки, у каждой нации — свой особый исток. У одной в горах, у другой на равнине, у третьей в лесах…
— А у тебя здорово получается, Витя, — признала Маринка. — Я что-то начинаю понимать.
Здорово получается не у меня, а у Владимира. Я лишь повторяю то, что слышал от него. Ну, не то чтобы повторяю, однако раньше у нас с тобой об этом вряд ли бы и разговор мог зайти.
— Ну, там здорово или нет, а только то море, или, говоря по-другому, общечеловеческая культура, станет богатым лишь в том случае, если каждая река будет нести свое, национальное, когда она будет питаться своими национальными истоками. И по дороге к морю той или другой реке вовсе не обязательно оглядываться на соседние или тем более подлаживаться под их течение. Бежит горная речонка вприпрыжку по камням-валунам — и пусть ее. А Волге-то лесной-степной зачем, глядя на нее, вприпрыжку — она же Волга — широка, глубока, сильна…
— Ну что ж, нам ничего не остается, как выпить за истоки!
Мне опять не понравилось, что Маринка только что сказанное восприняла на каком-то полусерьезе: молодец, Витя, давай выпьем, и все. А для меня это было важно и дорого потому, что я, может быть, впервые попытался самостоятельно осмыслить слышанное от Владимира. Так бывает, когда один композитор берет у другого тему и разрабатывает ее по-своему.
— В твоей морской картине, похоже, есть какой-то подтекст, но я его не совсем улавливаю. Кто на кого оглядывается и кто к кому подлаживается?
Мне уже не хотелось вести разговор в прежнем ключе. Маринка жаждет конкретности. Что ж!
— Мало ли кто оглядывается. А если недалеко ходить за примерами, скажем, не дальше Малаховки — прямо с тебя и можно начинать.
— Ого!
— Вот тебе и ого. Течешь-плывешь вроде бы Волгой, а оглядываешься на Сену. — Мне опять захотелось лениво развалившейся Маринке сказать что-то резкое. — Почему ты, русская женщина, не осмеливалась надеть русские сапоги, пока тебя на это не благословил Париж? Почему ты танцуешь шейк и хали-гали и поешь песни, написанные в тех же припадочных ритмах?
— Постой, постой, Витя, но песни-то сочиняю не я, — остановила меня Маринка.
— Что верно, то верно. Однако же сочиняют их опять же наши, доморощенные композиторы… И коль уж речь зашла о сочинителях. Сколько ты… ладно, не ты, а многие, в том числе и мы с тобой… Так вот, мало ли мы с тобой видим фильмов, сделанных нашими режиссерами, но сделанных под французов или под итальянцев? Даже русских классиков и то ухитряются экранизировать под заграничным соусом. А сколько мы прочитали, в той же «Юности», рассказов и повестей, написанных под Хемингуэя, под Сэлинджера, даже под Камю — под кого угодно, лишь бы только упаси бог, не быть похожим на кого-нибудь из русских писателей.
— Ну, уж ты, пожалуй, слишком.
— Слишком? Да вот… где мой портфель? — Я встал с лежака, взял портфель и достал из него толстый литературный журнал. — Журнал проводил анкету, и вот тебе ответы одного модного молодого поэта. На вопрос, кого он считает своими учителями, поэт перечисляет… раз, два, три… шестнадцать, нет, семнадцать — какая энциклопедическая широта! — семнадцать имен, и среди них ни одного — погляди и убедись! — ни одного русского. Будто бы не было и нет великой русской литературы, великого русского искусства и будто бы не у кого учиться.
— Но разве нельзя учиться у иностранцев?
Железная Маринкина логика!
— Да кто же говорит, что нельзя. Россия при Петре у кого только не училась — у немцев, у голландцев, у англичан, даже у своих врагов шведов, но оставалась Россией. Горький, например, сам признавался, что учился у французских писателей. Но, учась у французов, он все же писал не под французов, а оставался русским писателем.
Говорил я горячо, но получалось так, что мысли, казавшиеся мне большими и яркими, высказывались какими-то тусклыми, закругленными («учась!») словесами. А может, еще и то сбивало и сердило маня, что Маринка относилась к нашему разговору как-то очень уж спокойно, если не безразлично, — ну, будто бы о тех же самых купальниках говорили. Впрочем, о купальниках она рассуждала с большим пылом и жаром.
— А мне так казалось, — Маринка лениво потянулась в кресле, — что в последнее время как раз произошел поворот к прошлому.
— Ты хорошо сказала: национальные истоки для тебя — прошлое.
— Не придирайся к словам. Разве в них дело?
— Кстати уж, а что ты разумеешь под истоками?
— Ну, народное искусство… — Маринка замялась. — Народные песни, хороводы, резьба по дереву…
— Прялки, туеса, шкатулки, — в тон ей продолжил я.
— А что, разве это не правильно?
— Оно, может, и правильно, но больно уж как-то поверхи. И кое-кому зацепиться тут очень удобно. Ах, вы за старину?! Ах, вам снятся-видятся резные наличники, кокошники, расписные прялки? А не нужны ли еще впридачу лапти и курная изба? И пошло-поехало, и прекрасная, высокая идея осмеяна, похоронена… Истоки — это, конечно, и народное искусство, и Кижи, и Василий Блаженный. Но — не только. Это, наверное, еще и…
— Что и? — поторопила меня Маринка.
Черт возьми! Оказывается, куда проще изречь, что это не так, а вот как — скажи попробуй!
— Истоки надо искать, наверное, прежде всего в истории народа. И не в истории вообще, а в тех ее… ну, что ли, узловых сплетениях, которые складывают и обозначают национальный характер народа. Для нас, русских, это, наверное, и Илья Муромец с Васькой Буслаевым, и Куликово поле, и Бородинское поле, а еще и Ермак Тимофеевич со Стенькой Разиным… Это, между прочим, и декабристы, и Некрасов с его «малохудожественной» поэмой о русских женщинах.
— Ну если у меня поверхи, то у тебя, может, и глубоко, но уж очень общо, — огрызнулась Маринка. — Русский характер — что это за абстракция?
Вот и опять наивная, нелогичная Маринка поставила тебя в тупик. Вроде и вопрос-то не такой уж мудреный: кому не известно, что русский характер — не абстракция. Алексей Толстой, вон, в войну даже рассказ под таким названием написал. А только как ответить своими словами?!
— Давай уж будем последовательны. Может, русский человек — тоже абстракция?
— Ну зачем же ты на вопрос вопросом отвечаешь?! Тогда давай лучше спать, — так неожиданно оборвала разговор Маринка и при упоминании про сон даже зевнула.
Это меня уже окончательно вывело из равновесия: говорим о важных, можно сказать, святых вещах, а она зевает, будто старый пустой анекдот услышала!
— Да ты… — я резко встал со своего места и с силой шмякнул оказавшийся у меня в руках журнал о стол. — Да ты…
— Что я? — Маринка, видимо, почувствовала мое состояние и, не дожидаясь ответа, уже другим — примирительно-ласковым — голосом сказала: — Ты, Витя, наверное, лишнего выпил… А если что еще хотел сказать — завтра скажешь. Завтра у нас целый день. А сейчас и действительно спать пора, поздно.